Юрий Павлович Адлер – Оппонент и Учитель
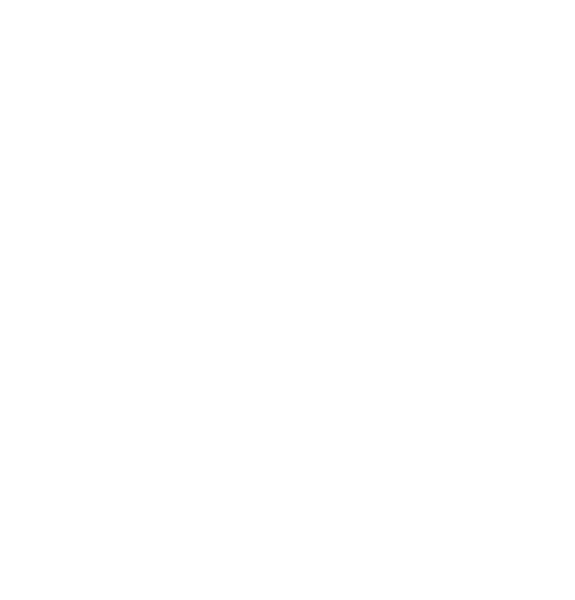
Елена Маркушина
17 НОЯБ / 2020
Украинский коллега Юрий Борисович Кабаков добавил к общему альбому памяти Юрия Павловича Адлера это фото 2004 года. Сама я делать этого не собиралась, хотя и альбом сама инициировала (с лёгкой руки Владимира Шпера), и порядка сорока фото добавила. Но, с другой стороны, почему бы и нет – разве что комментарий не получится кратким. И дело не в том, насколько событие, с нею связанное, моё личное. Просто даже внутри нашего цеха, среди приверженцев научного и мыследеятельностного подходов к управлению, мало кто понимает, какая эта беда – утрата оппонента.
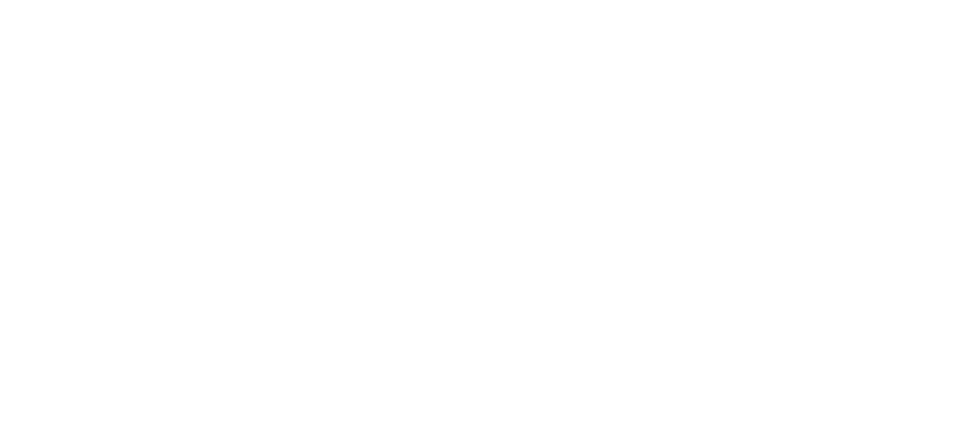
2004 г., семинар МИСиС, Москва
Каждый, кто знал Ю. П., вспоминает его по-своему. Но вряд ли кто-нибудь догадывается, какую роль Адлер сыграл в становлении в России управления изменениями нашей (не по Адизесу и не психологической, а нашей) российской школы...
На днях созванивалась с проф. МИСиС Татьяной М. Полховской, на фото справа) – вспоминали семинары, Одессу, ругали пандемию... Только она знает, скажем так – «официально знает», что Ю. П. был не просто моим оппонентом без шанса на примирение позиций в каком-нибудь открытом диалоге, а человеком, невольно поставившим меня в профессии перед серьёзным моральным выбором. [Время показало, решение 2012-го, хоть и было трудным, но оказалось верным; поясню, какое именно; терпение].
Для кого-то это звучит смешно или пафосно – что ж.., кто знает, может, и не было бы никакой дилеммы, не будь на моих плечах ответственности методолога (разработчика смыслов, логики, методов и инструментов ChM как деятельности) профсообщества Kinsmark, не будь за мной живого опыта резидентов, прилагавших к своим компаниям идеи Качества, философию Деминга, элементы TPS и Lean как бережливого производства. Адлер-статистик, профессионал в области матмоделирования процессов тоже вызывал у нашей братии большой интерес. Многие менеджеры, в том числе никак с Kinsmark не связанные, искали внимания Юрия Павловича по поводу «шести сигм» или, скажем, планирования эксперимента. Никаких расхождений позиций тут и быть не могло; Адлер – учёный с мировым именем как раз в этой области. Удивления начались тогда, когда Ю. П., не особенно интересуясь базовыми канонами, пошёл в нашу область, в управление развитием.
В 2004-м на семинаре МИСиС Юрий Павлович сделал интереснейший доклад о тщетности попыток установить истину с помощью опросов, о важности личного участия управленца в происходящем на предприятии. Он вспоминал фильм Акиры Куросавы «Расёмон» и приводил в пример знаменитых японцев, давших миру метод управления ПХП (путём хождения по всюду). Я попросила у Ю. П. этот доклад для сайта нашего портал-журнала, где он так и открыт с 2004 года. Его положения, встреченные с таким энтузиазмом не только мною, заставили следовать за Ю. П. хотя бы ради того, чтобы посмотреть, насколько последовательно они будут отражаться в примерах и идеях на будущих конференциях.
На днях созванивалась с проф. МИСиС Татьяной М. Полховской, на фото справа) – вспоминали семинары, Одессу, ругали пандемию... Только она знает, скажем так – «официально знает», что Ю. П. был не просто моим оппонентом без шанса на примирение позиций в каком-нибудь открытом диалоге, а человеком, невольно поставившим меня в профессии перед серьёзным моральным выбором. [Время показало, решение 2012-го, хоть и было трудным, но оказалось верным; поясню, какое именно; терпение].
Для кого-то это звучит смешно или пафосно – что ж.., кто знает, может, и не было бы никакой дилеммы, не будь на моих плечах ответственности методолога (разработчика смыслов, логики, методов и инструментов ChM как деятельности) профсообщества Kinsmark, не будь за мной живого опыта резидентов, прилагавших к своим компаниям идеи Качества, философию Деминга, элементы TPS и Lean как бережливого производства. Адлер-статистик, профессионал в области матмоделирования процессов тоже вызывал у нашей братии большой интерес. Многие менеджеры, в том числе никак с Kinsmark не связанные, искали внимания Юрия Павловича по поводу «шести сигм» или, скажем, планирования эксперимента. Никаких расхождений позиций тут и быть не могло; Адлер – учёный с мировым именем как раз в этой области. Удивления начались тогда, когда Ю. П., не особенно интересуясь базовыми канонами, пошёл в нашу область, в управление развитием.
В 2004-м на семинаре МИСиС Юрий Павлович сделал интереснейший доклад о тщетности попыток установить истину с помощью опросов, о важности личного участия управленца в происходящем на предприятии. Он вспоминал фильм Акиры Куросавы «Расёмон» и приводил в пример знаменитых японцев, давших миру метод управления ПХП (путём хождения по всюду). Я попросила у Ю. П. этот доклад для сайта нашего портал-журнала, где он так и открыт с 2004 года. Его положения, встреченные с таким энтузиазмом не только мною, заставили следовать за Ю. П. хотя бы ради того, чтобы посмотреть, насколько последовательно они будут отражаться в примерах и идеях на будущих конференциях.
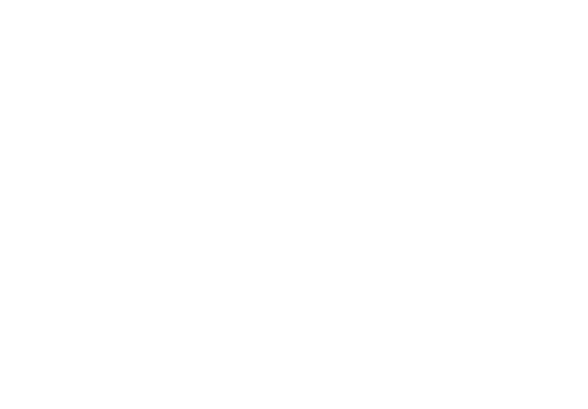
Ю.П. Адлер, В.Л. Шпер, Т.М. Полховская, П.Я. Калита, Е.Г. Маркушина на конференции по управлению в Одессе, 2005 г.
В импрувменте есть понятие «эффект Мёбиуса». Это вульгарное (в смысле сокращенно упрощенное) определение сложного когнитивного явления. В качестве методического аналога используется образ ленты Мёбиуса с двумя её условными сторонами (материнский образ «петля Мёбиуса» в отличие от ленты никаких сторон не имеет). Суть эффекта в том, что человек не замечает, как поток его усилий и деятельности, начатый ради благих целей (назовём их белыми), начинает служить целям обратно противоположным.
Этот когнитивный перевёртыш люди: а) могут осознать по прошествии времени («что мы натворили, а ведь так хорошо начинали»), б) могут стать жертвами своего же бессознательного и в) могут действовать сознательно ради другой цели с самого начала. Какой из трёх вариантов будет реализован, зависит от персональной социально-ролевой миссии человека [p.s.: заложенной в нём при рождении на уровне генома; HR-компонента в импрувменте основана не на психологии, а на социогеномике]. Если вы замечали когда-нибудь, что человек провозглашает одно, а делает другое, то очень вероятно, что вы наблюдали работу именно «эффекта Мёбиуса».
Сказанное Адлером в его сообщении о Расёмоне перекликается с выводами Нонака и Такеучи, Шина и других авторов, которые объясняли ключевую роль скрытых знаний в анализе той или иной ситуации. В каких случаях это уместно вспомнить?
Ну, например, если вы агитируете менеджеров за какой-то подход, успешно применяемый лично вами в своей компании, то по сути вы побуждаете других повторить, но для начала подумать над адаптацией метода к условиям своей фирмы. Вы транслируете факт того, что вы – да, всё это прожили, но ваша ответственность находится в пределах, заданных условиями частного случая. То есть желающим повторить придётся смотреть под ноги, думать о своих условиях, думать самостоятельно.
Если же вы агитируете за методы, применённые когда-то компанией, в которой вы никогда не работали сами, но у вас при этом (простите за запрещённое в нашем клубе выражение) «высокая насмотренность», вы про это много читали и слышали, то работаете вы на обратную цель. Вы воспитываете у слушателя религиозное мышление – он должен верить раньше, чем думать.
Этот когнитивный перевёртыш люди: а) могут осознать по прошествии времени («что мы натворили, а ведь так хорошо начинали»), б) могут стать жертвами своего же бессознательного и в) могут действовать сознательно ради другой цели с самого начала. Какой из трёх вариантов будет реализован, зависит от персональной социально-ролевой миссии человека [p.s.: заложенной в нём при рождении на уровне генома; HR-компонента в импрувменте основана не на психологии, а на социогеномике]. Если вы замечали когда-нибудь, что человек провозглашает одно, а делает другое, то очень вероятно, что вы наблюдали работу именно «эффекта Мёбиуса».
Сказанное Адлером в его сообщении о Расёмоне перекликается с выводами Нонака и Такеучи, Шина и других авторов, которые объясняли ключевую роль скрытых знаний в анализе той или иной ситуации. В каких случаях это уместно вспомнить?
Ну, например, если вы агитируете менеджеров за какой-то подход, успешно применяемый лично вами в своей компании, то по сути вы побуждаете других повторить, но для начала подумать над адаптацией метода к условиям своей фирмы. Вы транслируете факт того, что вы – да, всё это прожили, но ваша ответственность находится в пределах, заданных условиями частного случая. То есть желающим повторить придётся смотреть под ноги, думать о своих условиях, думать самостоятельно.
Если же вы агитируете за методы, применённые когда-то компанией, в которой вы никогда не работали сами, но у вас при этом (простите за запрещённое в нашем клубе выражение) «высокая насмотренность», вы про это много читали и слышали, то работаете вы на обратную цель. Вы воспитываете у слушателя религиозное мышление – он должен верить раньше, чем думать.
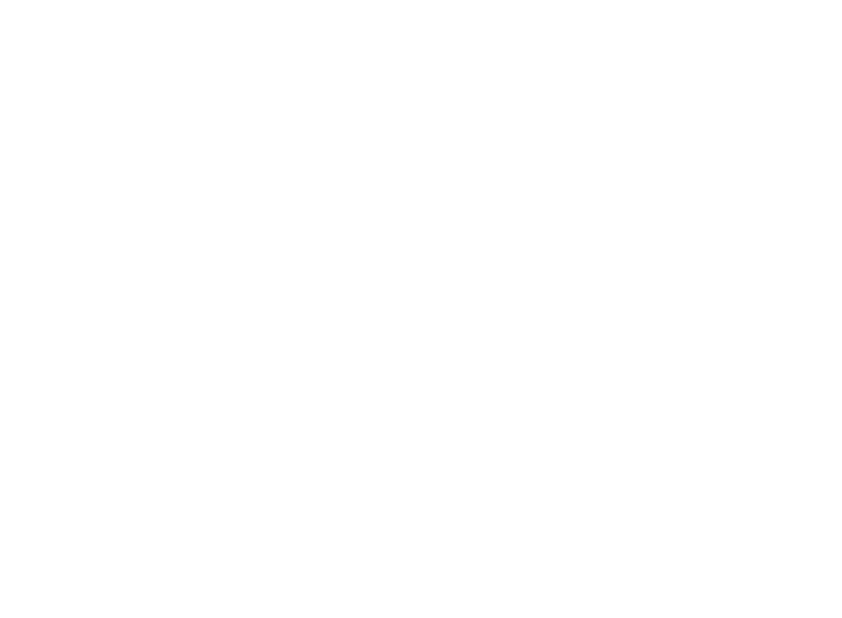
Ю.П. Адлер на семинаре МИСиС "Непрерывное совершенствование деятельности организаций", 26-2710.2011
В менеджменте, как в области прикладной, не существует истины в последней инстанции, есть бесконечное движение к ней. И нужна дискуссия, которую, как верно заметил Литвак, у нас часто путают со спором. В дискуссию приходят ради проверки собственных представлений, ради того чтобы выявить слабые места в своей позиции, чтобы обогатить общий информационный пласт. Для этого стороны должны быть одинаково информированы о предмете... В спор же, напротив, вступают ради победы над другим, ради утверждения собственной правоты. Спорить можно с кем угодно и о чём угодно без оглядки на экспертность сторон в предмете спора. И да – «истина рождается в дискуссии, в споре она выгорает».
Для дискуссии о методах менеджмента, как и для любой другой, нужны две вещи – желание и равная осведомлённость. Тот факт, что все люди без исключения подвержены влиянию эффекта Даннинга-Крюгера, должен наводить на мысль, что даже гуру менеджмента, безоговорочно правых во всём, не существует; все мы – люди, и человек не знает, чего именно он не знает. Было бы желание узнать.
Ближайший соратник и ученик Ю. П. Владимир Шпер говорит, что, узнав в больнице, что у него кроме проблемы с сердцем ещё и COVID19, Юрий Павлович сказал: «Молитесь за меня»... Никогда мы вопросов веры, бога и религии не касались, но, похоже, сходились в одном. «Главное в жизни – это любовь», – говорил Юрий Павлович. Сама так скажу: что есть бог? – Любовь. Но и продолжу: а где он, бог этот? – он в Правде. Истины в теории менеджмента может и нет, но правда есть. Не та, которая у каждого своя, а та, которую установила Природа как условие нашего успешного в ней существования.
Для дискуссии о методах менеджмента, как и для любой другой, нужны две вещи – желание и равная осведомлённость. Тот факт, что все люди без исключения подвержены влиянию эффекта Даннинга-Крюгера, должен наводить на мысль, что даже гуру менеджмента, безоговорочно правых во всём, не существует; все мы – люди, и человек не знает, чего именно он не знает. Было бы желание узнать.
Ближайший соратник и ученик Ю. П. Владимир Шпер говорит, что, узнав в больнице, что у него кроме проблемы с сердцем ещё и COVID19, Юрий Павлович сказал: «Молитесь за меня»... Никогда мы вопросов веры, бога и религии не касались, но, похоже, сходились в одном. «Главное в жизни – это любовь», – говорил Юрий Павлович. Сама так скажу: что есть бог? – Любовь. Но и продолжу: а где он, бог этот? – он в Правде. Истины в теории менеджмента может и нет, но правда есть. Не та, которая у каждого своя, а та, которую установила Природа как условие нашего успешного в ней существования.
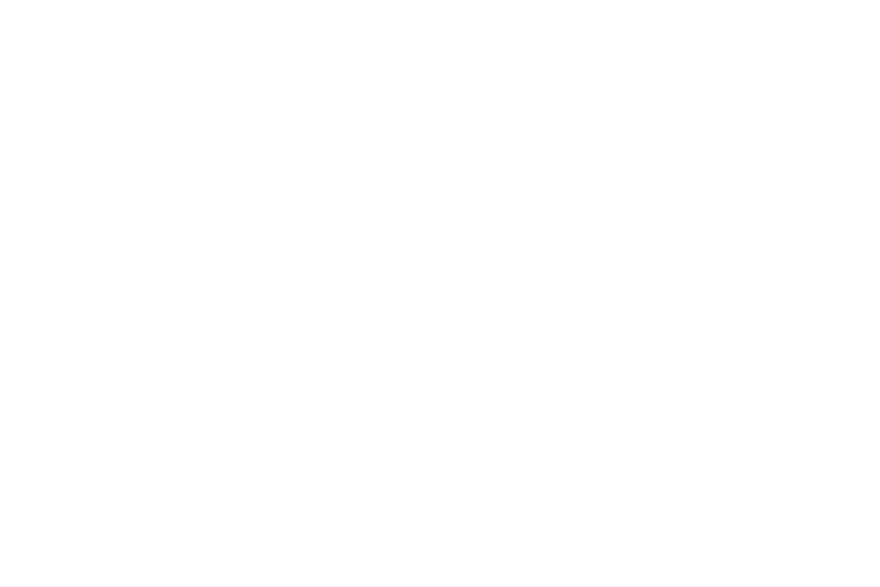
С Ю.П. Адлером и В.Л. Шпером, Алмата, 2012
Благодаря Татьяне Михайловне и Владимиру Львовичу с 2003 по 2012-й я почти ежегодно встречалась с Ю. П. в группе докладчиков на конференциях. Своими докладами я пыталась в том числе привлечь интерес Адлера и его ближнего круга к открытиям моего предмета. Тщетно. Позднее на базе центра «МеталлCертификат» в Москве мы с Т. М. хотели организовать мой курс по гуманитарной части change-management, на который в качестве гостя я мечтала пригласить Ю. П. Не сложилось. Некоторые наиболее популярные соображения я излагала в статьях, которые выходили в журнале «Методы менеджмента качества» и Business Excellence, но что-то более серьёзное, содержащее чуть больше «опасной новизны», не было издано, что нормально. Ну,.. с одной стороны, неважно то, что, например, цикл Шухарта-Деминга отлично работающий в деле улучшения производственных процессов, не применим в улучшениях процессов управленческих (там применяется цикл JIPR). Или то, что на фоне бесконечных разговоров об ISO и качестве менеджмента мы забыли, как выглядят хорошие вещи. Но как же тогда другая сторона? Правда то есть...
С 2007-го я уже понимала, что Ю. П. не откажется от ряда ошибочных положений не потому, что не хочет, а потому, что не может. И дилемма со временем обозначилась сама собой. Ради той самой правды нужно было выходить на громкий диалог, приплетая к нему всё бытовое и общеизвестное, вроде «сказки продаются лучше статистических методов», и я бы сделала это, если бы не урок, усвоенный намного раньше.
В 1997-2001 гг. я работала в консалтинге и в частности в питерской компании «Бизнес Инжиниринг Групп». В подходе БИГ было много трезвого, вернее, в подходе Вячеслава Кондратьева из его с Бочкарёвым книги «7 нот менеджмента» (БИГ представляли этот подход в Ленинграде), но были и другие вещи...
Что продавали БИГ? Программный комплекс, консультации по его внедрению и методологию «семи нот». Так вот, программный комплекс подавался как система управления компанией. Я доказывала г. д. Льву Григорьеву, что называть так ПО, значит вводить компании в заблуждение, что у нас программа не управления компанией, а описания компании. Управление предполагает, говоря языком технаря-системщика, на входе – возмущение, на выходе – разность потенциалов. Программу даже инструментом управления назвать нельзя: она не помогает топ-менеджеру погрузиться в реальные процессы – она погружает его в компьютер, приковывает внимание к программе, порождающей регламенты и схемы.
Принципиальное разногласие. Такое может долго питать дискуссию с коллегой, но не с непосредственным начальником. Однако именно в БИГовский период в моей жизни появилась и книга Нива «Пространство доктора Деминга», и личный поначалу сайт «Управление изменениями в компании», и его неожиданный читатель из Москвы Владимир Шпер, и ещё более неожиданное приглашение приехать от знакомого лишь понаслышке Ю. П. Адлера (он просто нашёл в общей папке для чтения в поезде мою статью о Деминге).
Сильной стороной маркетинга БИГ были бесплатные семинары. Их блестяще читал товарищ и бывший сослуживец гендиректора Семён Львович Горелик. Я изредка заглядывала в конференц-зал, чтобы полюбоваться тем, как он это делает. Но со временем я стала замечать то, имени чему ещё не знала (пройдёт семь лет, прежде чем я научусь узнавать «эффект ленты Мёбиуса»).
Обычно я присаживалась к гостям на один из последних рядов и наблюдала, с каким открытым интересом они внимали всему, что слышали. Многие конспектировали на ходу. С какого-то момента это стало вызывать беспокойство – ни уточняющих реплик, ни вопросов из зала, как если бы это был сеанс массового гипноза... Ну ладно, думала я, может быть хорошо воспитанная ленинградская публика просто не любит перебивать и оставляет вопросы на «после бала». Как директор по маркетингу я общалась со многими позднее. Те, кто надеялись найти в моём лице адвоката потребителя, выдавали спорные (с точки зрения БИГ) суждения, а иногда и просто просили передать Семёну Львовичу пожелание поработать на их месте или на любом реальном предприятии в роли гендиректора – тогда, мол, и поговорим (узнаёте требование одинаковой информированности участников дискуссии?). Как бы активно я потом ни махала сигнальными флажками перед лицом Семёна Львовича, он меня не слышал.
Однажды на очередном семинаре Горелика я не выдержала и прямо с галёрки громко возразила: «Да не так это, Семён Львович!», ну и что-то там ещё. Публика встрепенулась как будто ошпаренная – «так это не безусловная истина, у них у самих согласия нет!».
Я была права, но запомнилось мне не чувство удовлетворённой правоты, а чувство досады. Я – директор по маркетингу – не должна была выносить из избы внутренние разногласия, не должна была наносить ущерб репутации коллеги в глазах его потенциальных клиентов. Это Горелик продавал, а не я. Это он приносил компании деньги, а не я. Коммерческое консалтинговое предприятие существует ради заработка, а не ради правды. И вообще, что уважительнее: стремление человека или компании заработать, или какая-то там правда, которая никому особенно не нужна и к тому же не кормит? Вдобавок к этому есть же элементарное уважение к старшему товарищу, который тебе в отцы годится. Сайт для лидеров перемен тогда уже существовал, и с него я же сама и вещала коллегам «ты или меняй это, или уходи, а если соучаствуешь без всякой дискуссии, значит поощряешь». И я ушла. Вернулась в реальный бизнес, о чём ни разу не пожалела...
С 2007-го я уже понимала, что Ю. П. не откажется от ряда ошибочных положений не потому, что не хочет, а потому, что не может. И дилемма со временем обозначилась сама собой. Ради той самой правды нужно было выходить на громкий диалог, приплетая к нему всё бытовое и общеизвестное, вроде «сказки продаются лучше статистических методов», и я бы сделала это, если бы не урок, усвоенный намного раньше.
В 1997-2001 гг. я работала в консалтинге и в частности в питерской компании «Бизнес Инжиниринг Групп». В подходе БИГ было много трезвого, вернее, в подходе Вячеслава Кондратьева из его с Бочкарёвым книги «7 нот менеджмента» (БИГ представляли этот подход в Ленинграде), но были и другие вещи...
Что продавали БИГ? Программный комплекс, консультации по его внедрению и методологию «семи нот». Так вот, программный комплекс подавался как система управления компанией. Я доказывала г. д. Льву Григорьеву, что называть так ПО, значит вводить компании в заблуждение, что у нас программа не управления компанией, а описания компании. Управление предполагает, говоря языком технаря-системщика, на входе – возмущение, на выходе – разность потенциалов. Программу даже инструментом управления назвать нельзя: она не помогает топ-менеджеру погрузиться в реальные процессы – она погружает его в компьютер, приковывает внимание к программе, порождающей регламенты и схемы.
Принципиальное разногласие. Такое может долго питать дискуссию с коллегой, но не с непосредственным начальником. Однако именно в БИГовский период в моей жизни появилась и книга Нива «Пространство доктора Деминга», и личный поначалу сайт «Управление изменениями в компании», и его неожиданный читатель из Москвы Владимир Шпер, и ещё более неожиданное приглашение приехать от знакомого лишь понаслышке Ю. П. Адлера (он просто нашёл в общей папке для чтения в поезде мою статью о Деминге).
Сильной стороной маркетинга БИГ были бесплатные семинары. Их блестяще читал товарищ и бывший сослуживец гендиректора Семён Львович Горелик. Я изредка заглядывала в конференц-зал, чтобы полюбоваться тем, как он это делает. Но со временем я стала замечать то, имени чему ещё не знала (пройдёт семь лет, прежде чем я научусь узнавать «эффект ленты Мёбиуса»).
Обычно я присаживалась к гостям на один из последних рядов и наблюдала, с каким открытым интересом они внимали всему, что слышали. Многие конспектировали на ходу. С какого-то момента это стало вызывать беспокойство – ни уточняющих реплик, ни вопросов из зала, как если бы это был сеанс массового гипноза... Ну ладно, думала я, может быть хорошо воспитанная ленинградская публика просто не любит перебивать и оставляет вопросы на «после бала». Как директор по маркетингу я общалась со многими позднее. Те, кто надеялись найти в моём лице адвоката потребителя, выдавали спорные (с точки зрения БИГ) суждения, а иногда и просто просили передать Семёну Львовичу пожелание поработать на их месте или на любом реальном предприятии в роли гендиректора – тогда, мол, и поговорим (узнаёте требование одинаковой информированности участников дискуссии?). Как бы активно я потом ни махала сигнальными флажками перед лицом Семёна Львовича, он меня не слышал.
Однажды на очередном семинаре Горелика я не выдержала и прямо с галёрки громко возразила: «Да не так это, Семён Львович!», ну и что-то там ещё. Публика встрепенулась как будто ошпаренная – «так это не безусловная истина, у них у самих согласия нет!».
Я была права, но запомнилось мне не чувство удовлетворённой правоты, а чувство досады. Я – директор по маркетингу – не должна была выносить из избы внутренние разногласия, не должна была наносить ущерб репутации коллеги в глазах его потенциальных клиентов. Это Горелик продавал, а не я. Это он приносил компании деньги, а не я. Коммерческое консалтинговое предприятие существует ради заработка, а не ради правды. И вообще, что уважительнее: стремление человека или компании заработать, или какая-то там правда, которая никому особенно не нужна и к тому же не кормит? Вдобавок к этому есть же элементарное уважение к старшему товарищу, который тебе в отцы годится. Сайт для лидеров перемен тогда уже существовал, и с него я же сама и вещала коллегам «ты или меняй это, или уходи, а если соучаствуешь без всякой дискуссии, значит поощряешь». И я ушла. Вернулась в реальный бизнес, о чём ни разу не пожалела...
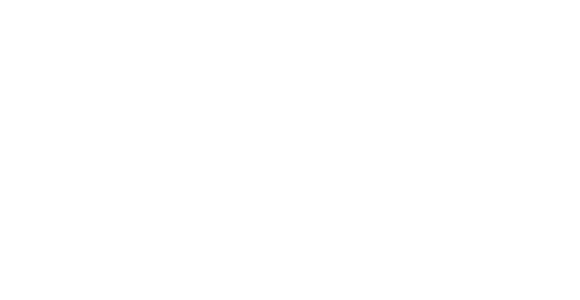
1993 г., Москва. Члены инициативной группы по созданию Российской Ассоциации Деминга
Слева направо: cтоят - Астраханский Юрий Леоидович, Рубаник Юрий Тимофеевич
сидят - Чистякова С.В., Вернер В.Д., Конорева Л. А., ???????? , Адлер Юрий Павлович. Фото с сайта Ассоциации
Слева направо: cтоят - Астраханский Юрий Леоидович, Рубаник Юрий Тимофеевич
сидят - Чистякова С.В., Вернер В.Д., Конорева Л. А., ???????? , Адлер Юрий Павлович. Фото с сайта Ассоциации
В импрувменте есть все ответы на вопросы, которые мучают улучшенцев разных конфессий. Но вы знаете что.., мучиться – это тоже выбор. Есть масса прекрасных установок, которые помогут вам мучиться долго и с удовольствием. «Менеджмент на большинстве российских предприятий находится на очень низком уровне». Хотите верить в это «большинство» – верьте. Одна вера сама не ходит, к ней тут же добавится другая. Например в то, что где-то там жизнь много лучше российской и менеджмент не чета нашему. [«Синдром Туриста» – ещё одно когнитивное искажение, непонимание которого не позволит вам стать профессионалом перемен.]
Или вот, скажем, негативные явления или события, которые тоннами нам поставляются открытой информационной средой. У вас есть позиция по поводу безобразия А – так выскажите, а то подумают, что у вас её нет. Или вот Б ещё стряслось или Ю тянется десятилетиями. У нас, например, «философия Деминга не принимается на вооружение большинством российских компаний» – на это вообще можно кивать без устали и лайков насобирать, и «друзей». Что не так? А то, что пока вы рефлексируете на тему чего-то плохого, вы не создаёте ничего хорошего. В это же самое время вы могли бы создать что-то хорошее... Вы хотите, чтобы в России появились своя успешная производственная система? Как же она появится, если вместо того чтобы её создавать, вы взираете на японскую? Вы туда инвестируете всё своё внимание. Вы то, допридуманное и недопонятое, сюда тащите не ради изучения опыта, а ради внедрения ВМЕСТО. Ну, нет же Пророка в отечестве своём, нет. Но значит ли это, что своим и шанса давать не надо? Или свои не свои?
От остроты этой повестки я решила отойти в 2012 году, практически исчезла из такого любимого мною коллегиального общения с москвичами. Решила создавать хорошее с соратниками. От громких высказываний в адрес оппонентов, к коим некоторые резиденты Сообщества меня активно подвигали, я отказалась. Я сделала это прежде всего из уважения к Адлеру...
Надо понимать, что отход от профтусовок лишает тебя участия в событиях, которые работают на твой личный бренд. Будь ты хоть семи пядей во лбу, тебя не позовут ни на конференции, ни в журналы, ведь с какого-то момента, ты человек с улицы, а не из клуба. Так оно работает везде, независимость вообще обходится дорого и странам, и людям. Помню, кто-то из москвичей риторически спрашивал, мол, как так вот Юрий Тимофеевич Рубаник, знакомый с Демингом лично, обходится без профессиональных тусовок. Наверняка у Ю. Т. на то свои резоны, я за себя скажу. Мой опыт подтвердил: совсем не обязательно очно и до хрипоты спорить с оппонентом, чтобы в своей работе учитывать его точку зрения...
Как-то у нас – русских – так принято, что другого или любят целиком, или целиком не любят. Эта любовь к крайностям – вовсе не только наша национальная черта, просто кто-то предпочитает «рецепты для ленивых» и не понимает, как это можно – любить оппонента... Ю. П. был интереснейшим человеком, ходячей энциклопедией, в нём было столько всего, чем можно было любоваться. Это бесценно само по себе.
У меня нет задачи перечислять здесь все точки несогласия с Ю. П., их немало. Я лишь хочу поставить два акцента.
Или вот, скажем, негативные явления или события, которые тоннами нам поставляются открытой информационной средой. У вас есть позиция по поводу безобразия А – так выскажите, а то подумают, что у вас её нет. Или вот Б ещё стряслось или Ю тянется десятилетиями. У нас, например, «философия Деминга не принимается на вооружение большинством российских компаний» – на это вообще можно кивать без устали и лайков насобирать, и «друзей». Что не так? А то, что пока вы рефлексируете на тему чего-то плохого, вы не создаёте ничего хорошего. В это же самое время вы могли бы создать что-то хорошее... Вы хотите, чтобы в России появились своя успешная производственная система? Как же она появится, если вместо того чтобы её создавать, вы взираете на японскую? Вы туда инвестируете всё своё внимание. Вы то, допридуманное и недопонятое, сюда тащите не ради изучения опыта, а ради внедрения ВМЕСТО. Ну, нет же Пророка в отечестве своём, нет. Но значит ли это, что своим и шанса давать не надо? Или свои не свои?
От остроты этой повестки я решила отойти в 2012 году, практически исчезла из такого любимого мною коллегиального общения с москвичами. Решила создавать хорошее с соратниками. От громких высказываний в адрес оппонентов, к коим некоторые резиденты Сообщества меня активно подвигали, я отказалась. Я сделала это прежде всего из уважения к Адлеру...
Надо понимать, что отход от профтусовок лишает тебя участия в событиях, которые работают на твой личный бренд. Будь ты хоть семи пядей во лбу, тебя не позовут ни на конференции, ни в журналы, ведь с какого-то момента, ты человек с улицы, а не из клуба. Так оно работает везде, независимость вообще обходится дорого и странам, и людям. Помню, кто-то из москвичей риторически спрашивал, мол, как так вот Юрий Тимофеевич Рубаник, знакомый с Демингом лично, обходится без профессиональных тусовок. Наверняка у Ю. Т. на то свои резоны, я за себя скажу. Мой опыт подтвердил: совсем не обязательно очно и до хрипоты спорить с оппонентом, чтобы в своей работе учитывать его точку зрения...
Как-то у нас – русских – так принято, что другого или любят целиком, или целиком не любят. Эта любовь к крайностям – вовсе не только наша национальная черта, просто кто-то предпочитает «рецепты для ленивых» и не понимает, как это можно – любить оппонента... Ю. П. был интереснейшим человеком, ходячей энциклопедией, в нём было столько всего, чем можно было любоваться. Это бесценно само по себе.
У меня нет задачи перечислять здесь все точки несогласия с Ю. П., их немало. Я лишь хочу поставить два акцента.
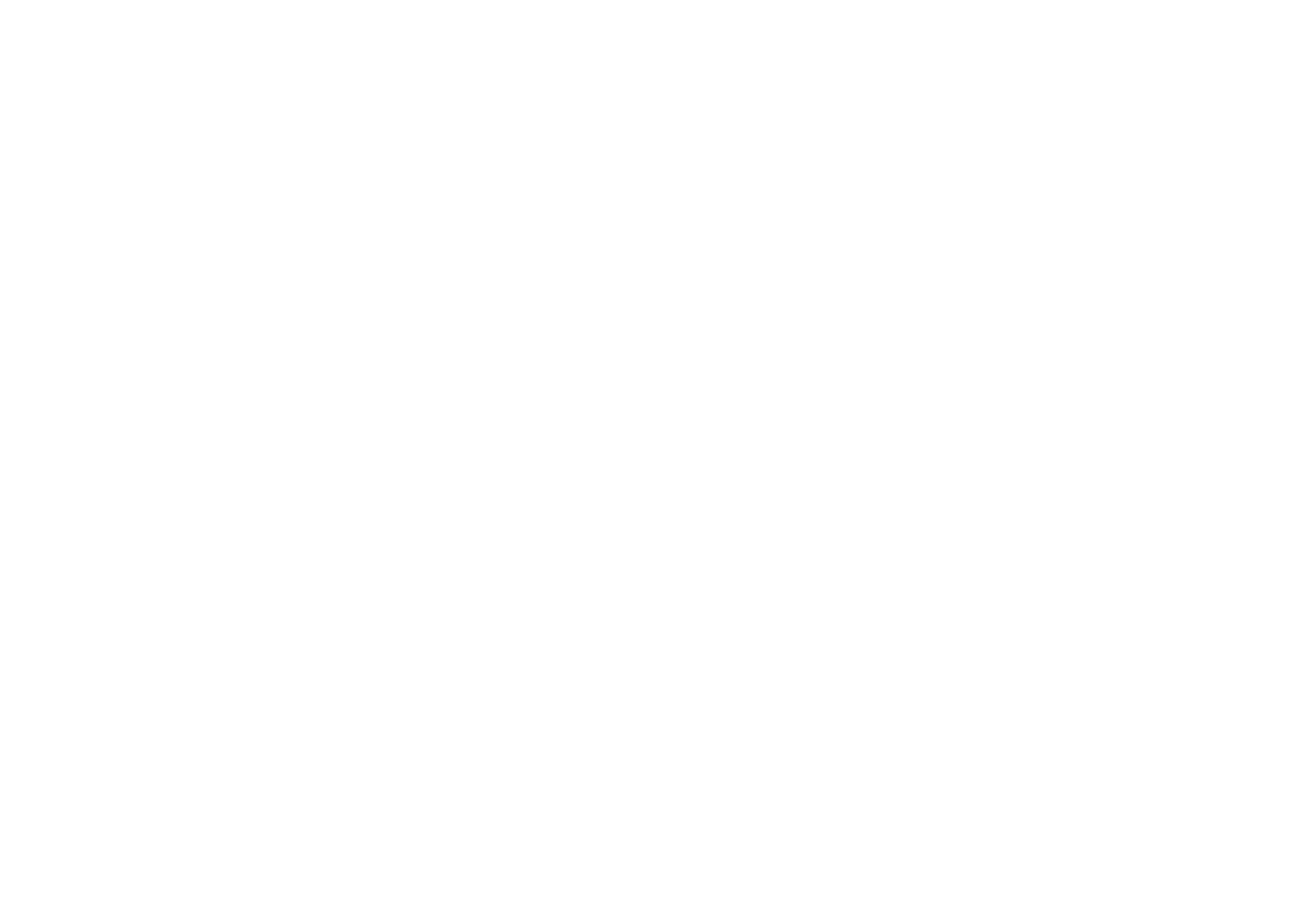
О чём-то спорим с Юрием Павловичем в перерыве Алматинского международного форума по качеству, 2010 год
Первый. В импрувменте есть много такого, что помогает выстроить диалог между теорией и практикой, хотя независимость мышления – слишком дорогая вещь, чтобы стать предметом массового спроса...
Второй. Юрий Павлович всегда был честен с аудиторией. Если вы послушаете внимательно, например, эпизод его выступления в Н. Новгороде 13.12.13, то заметите, что рассказ о секрете Тойота содержит словосочетания «по-видимому» и «скорее всего». Эти важные оговорки многие просто не замечают. Даже те, кто увлекаются такой штукой, как «доказательный менеджмент», оказываются в зоне поражения невероятного обаяния Ю.П. и его дара убеждать. [Мы пойдём другим путём», – говорит Ю.П. в начале выступления. Смею допустить, что вы плохо изучали социогеномику, если думаете, что этот мем из истории про лидерство].
Говоря образно, Адлер для любой аудитории был как сычужный фермент для молока – уйдёт ли всё в сыворотку или хотя бы ложку творога мы всё же получим, зависит от качества молока. И в сыроделии оно так, и в обучении менеджеров. Тот сыр, что выходит из такого творога, способен накормить страну и невероятно дорог.
По реакции человека на те или иные утверждения Ю. П. можно определить, прожил ли он хотя бы основы управления изменениями, возможна ли с ним дискуссия. Например, если он повторяет за Ю. П. «сопротивление изменениям – признак неэффективного менеджмента, а не свойство природы вещей», и при этом он – руководитель предприятия, то беда тому предприятию. Потому что это Ю. П. так говорить было можно, а руководителю нельзя. Сопротивление – это свойство природы вещей – давно изучено и описано; допустим, менеджер не резидент сообщества Kinsmark, ну так на дворе и не начало нулевых – гугл в помощь.
Второй. Юрий Павлович всегда был честен с аудиторией. Если вы послушаете внимательно, например, эпизод его выступления в Н. Новгороде 13.12.13, то заметите, что рассказ о секрете Тойота содержит словосочетания «по-видимому» и «скорее всего». Эти важные оговорки многие просто не замечают. Даже те, кто увлекаются такой штукой, как «доказательный менеджмент», оказываются в зоне поражения невероятного обаяния Ю.П. и его дара убеждать. [Мы пойдём другим путём», – говорит Ю.П. в начале выступления. Смею допустить, что вы плохо изучали социогеномику, если думаете, что этот мем из истории про лидерство].
Говоря образно, Адлер для любой аудитории был как сычужный фермент для молока – уйдёт ли всё в сыворотку или хотя бы ложку творога мы всё же получим, зависит от качества молока. И в сыроделии оно так, и в обучении менеджеров. Тот сыр, что выходит из такого творога, способен накормить страну и невероятно дорог.
По реакции человека на те или иные утверждения Ю. П. можно определить, прожил ли он хотя бы основы управления изменениями, возможна ли с ним дискуссия. Например, если он повторяет за Ю. П. «сопротивление изменениям – признак неэффективного менеджмента, а не свойство природы вещей», и при этом он – руководитель предприятия, то беда тому предприятию. Потому что это Ю. П. так говорить было можно, а руководителю нельзя. Сопротивление – это свойство природы вещей – давно изучено и описано; допустим, менеджер не резидент сообщества Kinsmark, ну так на дворе и не начало нулевых – гугл в помощь.
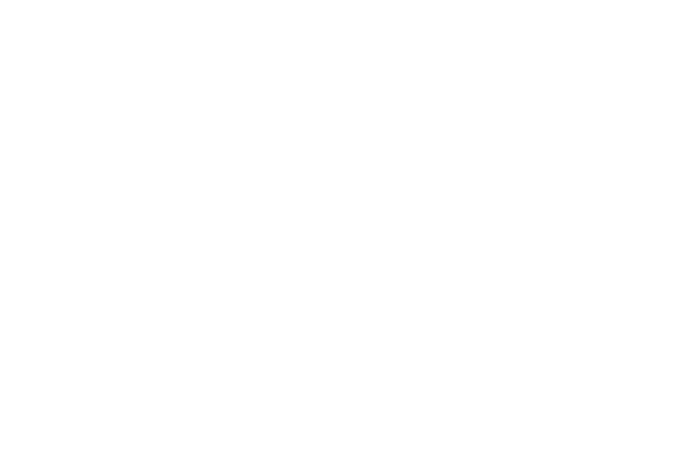
Алмата, 2012 (фото Любови Харламовой)
Не знаю. Нет у меня версий, кто теперь после Адлера...
Кто лучше него вскроет в управленческий среде непреходящую правоту Крижанича, сказавшего о русских: «Нам одним из всех народов выпала какая-то странная и несчастная судьба, ибо мы одни являемся посмешищем для всего света из-за того, что добровольно напрашиваемся на чужевладство. И что ещё удивительнее: ни один народ на свете не потерпел такого позора от чужеземцев, какой потерпели мы из-за того, что мы дали победить себя одними лишь речами без всякого оружия » (Юрий Крижанич, трактат «Политика», 1663 г.).
Кто другой так же ярко выявит тоску русского человека по идеальному обществу (хотя бы акционерному)? Кто другой, продвигая идеи гуманистического менеджмента, так увлечёт собственников, «уставших от операционки»? Так и хочется спросить некоторых успешных, а в вашей компании менеджмент что, бесчеловечный, ни разу не гуманистический? Вас-то как угораздило принимать идеи Деминга как веру, а не как снаряд для тренировки критического мышления? Практики должны не только внимать теоретикам, но и оппонировать им. Всем теоретикам, и Демингу тоже...
Коллеги по Kinsmark, которые знают, что никуда я не эмигрировала, не стёрлась и не перекрасилась, понимают, что подъём России, идущий через колоссальное сопротивление, невозможен без широкого общественного диалога. А он, горемычный, так у нас «широк», что в управленческой среде напрочь отсутствует. У нас по умолчанию без всякого диалога если change-management – то, ясное дело, привозной, если про организацию, то что-нибудь бирюзовое тоже оттуда... Взирая на некоторые инициативы Самого Верха и выбирая меньшее зло, мы надеемся, что под иностранными обёртками придут годные именно для России концепции. Ведь нет пророков, так что, как ни назови, лишь бы служило развитию и созиданию. Так говорят многие резиденты Гильдии, и мы тут спорим уже о пределах допустимого...
Не знаю, какой другой ресурс публиковал в двухтысячных столько Адлера и Шпера, сколько наш портал «Управление изменениями в компании» Markus.spb,ru. Поиск по этому старому сайту работает плохо (надо написать в строке искомое, поставить галку рядом со словом Яндекс и на это же слово нажать), но я призываю читать Адлера, разговаривать с ним и думать. Юрий Павлович дал очень много российской методологии change-management, вряд ли догадываясь об этом. Он стал зеркалом, в котором отразились все оттенки мышления российского управленца. Не только для своих последователей и учеников, но и для оппонентов он стал триггером, побуждающим к принятию важных решений и неустанному профессиональному самосовершенствованию.
P.S. Желающих истолковать мною сказанное неверно прошу обратить внимание, что пишу я это на блоге для ПРОФЕССИОНАЛОВ перемен. Это к вопросу о дискуссии. Что-то острое и свежее тут, возможно, найдётся для вас, но для Юрия Павловича в этой заметке не нашлось бы ничего нового. Я не хочу принимать его уход и ощущаю его присутствие в нашем беззвучном диалоге так же ясно, как год или два назад. Он продолжится в будущих книгах и посвящённых ему событиях, в каждом из тех, кому он был по-настоящему дорог.
Моё выступление на Круглом Столе, посвящённом памяти и наследию Ю.П. Адлера «Идеи, улучшающие мир» (Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 10 декабря 2020 г., VI Международная практическая конференция-биеннале «Системный анализ в экономике». СЕКЦИЯ 7 Системный подход в науке и образовании).
Кто лучше него вскроет в управленческий среде непреходящую правоту Крижанича, сказавшего о русских: «Нам одним из всех народов выпала какая-то странная и несчастная судьба, ибо мы одни являемся посмешищем для всего света из-за того, что добровольно напрашиваемся на чужевладство. И что ещё удивительнее: ни один народ на свете не потерпел такого позора от чужеземцев, какой потерпели мы из-за того, что мы дали победить себя одними лишь речами без всякого оружия » (Юрий Крижанич, трактат «Политика», 1663 г.).
Кто другой так же ярко выявит тоску русского человека по идеальному обществу (хотя бы акционерному)? Кто другой, продвигая идеи гуманистического менеджмента, так увлечёт собственников, «уставших от операционки»? Так и хочется спросить некоторых успешных, а в вашей компании менеджмент что, бесчеловечный, ни разу не гуманистический? Вас-то как угораздило принимать идеи Деминга как веру, а не как снаряд для тренировки критического мышления? Практики должны не только внимать теоретикам, но и оппонировать им. Всем теоретикам, и Демингу тоже...
Коллеги по Kinsmark, которые знают, что никуда я не эмигрировала, не стёрлась и не перекрасилась, понимают, что подъём России, идущий через колоссальное сопротивление, невозможен без широкого общественного диалога. А он, горемычный, так у нас «широк», что в управленческой среде напрочь отсутствует. У нас по умолчанию без всякого диалога если change-management – то, ясное дело, привозной, если про организацию, то что-нибудь бирюзовое тоже оттуда... Взирая на некоторые инициативы Самого Верха и выбирая меньшее зло, мы надеемся, что под иностранными обёртками придут годные именно для России концепции. Ведь нет пророков, так что, как ни назови, лишь бы служило развитию и созиданию. Так говорят многие резиденты Гильдии, и мы тут спорим уже о пределах допустимого...
Не знаю, какой другой ресурс публиковал в двухтысячных столько Адлера и Шпера, сколько наш портал «Управление изменениями в компании» Markus.spb,ru. Поиск по этому старому сайту работает плохо (надо написать в строке искомое, поставить галку рядом со словом Яндекс и на это же слово нажать), но я призываю читать Адлера, разговаривать с ним и думать. Юрий Павлович дал очень много российской методологии change-management, вряд ли догадываясь об этом. Он стал зеркалом, в котором отразились все оттенки мышления российского управленца. Не только для своих последователей и учеников, но и для оппонентов он стал триггером, побуждающим к принятию важных решений и неустанному профессиональному самосовершенствованию.
P.S. Желающих истолковать мною сказанное неверно прошу обратить внимание, что пишу я это на блоге для ПРОФЕССИОНАЛОВ перемен. Это к вопросу о дискуссии. Что-то острое и свежее тут, возможно, найдётся для вас, но для Юрия Павловича в этой заметке не нашлось бы ничего нового. Я не хочу принимать его уход и ощущаю его присутствие в нашем беззвучном диалоге так же ясно, как год или два назад. Он продолжится в будущих книгах и посвящённых ему событиях, в каждом из тех, кому он был по-настоящему дорог.
Оставить комментарий можно под этой публикацией на FB
Статья "Одна аспирантка и Ю.П. Адлер".
Моё выступление на Круглом Столе, посвящённом памяти и наследию Ю.П. Адлера «Идеи, улучшающие мир» (Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 10 декабря 2020 г., VI Международная практическая конференция-биеннале «Системный анализ в экономике». СЕКЦИЯ 7 Системный подход в науке и образовании).
